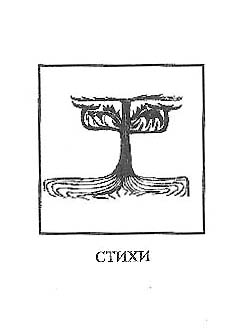
СТИХИ
* * * Голландской сырной корочкой, цыганской горной козочкой по родине скакать, украденной и проданной дорожку не скатать назад, - а ты вразвалочку, - нельзя, где на развилочке указано - сюда, и резеда качается, а туча истончается и плещется вода.БРУДЕРШАФТ
Когда я, твой кулак отбив ногой, лежу, как в луже, лживой и нагой, и, простыню сырую зажевав, ползу, тебя цепляя за рукав, от страха одиночества скуля, от ностальгии, пьянства и цинизма, - как ненавижу, нас начав с нуля, тебя ни после смерти, ни при жизни!* * * На гондоле, с букетиком и песней, и мы с тобой, оплаканы, воскреснем, и мы с тобой иссякнем, словно тень, упавшая на нисходящий день. .* * * И юноша, румянцем опушен, в моих глазах неволен и смешон, и старящийся легкий светский лев прельстился мной на зависть мертвых дев, и опытная женщина в плечо мне целится улыбкой горячо, - а всё затем, чтоб ночью ледяной, пьянея от обиды и сирени, я, скрыта от тебя глухой стеной, в молитве стерла детские колени.* * * О, завтра я скажу тебе - прощай, и долго буду громче всех смеяться. Фальшивит скрипка. И, не сняв плаща намокшего, ты смеешь целоваться - и с кем? Она слащава и дурна, но как и я, ни ночи не верна, да только, наливая нам вина, не ты один белее полотна.* * * К утру над Утрехтом парит невидимый кораблик, и сам с собою говорит остолбенелый зяблик. Пустые перышки плывут в кувшинках и крапиве, а он поет как слезы льют, что нет его красивей. Он ждет: канал заклеит льдом, и в нем оттает прежний дом.* * * На всех фронтах идут бои. Слетайтесь, голуби мои, чтоб нас не разорвали. Над небом голос мой окреп, горит под нёбом курослеп, как рельса на вокзале. Я ухожу в последний рейс - разлука, времени в обрез, подсчитаны патроны, и вьется пламя до небес, и нет на мне короны, а из воронки холостой - не голуби, - вороны.* * * Моря Северного желток - захлебывайся. Глоток суши, и тишины сгусток во рту войны. Сдали тебя внаем, белочка, грызть орешек, чтоб отоспать вдвоем под землею - свята и грешен.* * * О, Амстердам, ты улица моя, зловонная от спермы и удушья. Как ледовита радости струя! Услышавший - имеет уши и страх перекидного воробья, на площадь Дам слетая бить баклуши.* * * Просыпается русская речь, как ее ни беречь, ни стеречь, заводи пристяжную лошадку на мосту по затрещине шаткой, по запруженной небом воде. Я себя не встречаю нигде, кроме сна - подземелья и злобы, мы оттуда рождаемся оба, только ты впереди за ручьем - обручен, обречен, ни при чем, поджидаешь кораблик ручной, что лениво проплыл надо мной.* * * Никогда не пиши о себе ни стихов, ни подветренных строчек, - этот маленький синий платочек эшелоном прошел по судьбе, позвонком затеряйся в толпе. Никогда не пиши о других стих веселый, развинченный болью, подлежащий любому застолью, о паденьях своих дорогих. Никогда не молчи о любви, чей венозный прорвется июнь столкновеньем таким лобовым со стежками по мертвому полю, что качнет одуванчики - дунь, а грядущее трачено молью.* * * Птица Феникс, одуванчик, мир обидчив и заманчив, только горло - поперек, и тебя не уберег. Золотистой сладкой песней если выплеснешь, - исчезни, - нет ребенка у воды. Перламутровы сады. Не заметили утраты, солью слизаны следы.* * * Как метко бьет! Как больно и задорно, с ленцой, охватом и пренебреженьем. Где семенят собачкой подзаборной, обрушивает мир одним движеньем. Пойдем учиться на Татьяну Ларину, такая участь нам судьбой подарена, обремененной переменой мест. А, подворовывая у судьбы, считаешь лбом прорехи и столбы, но бог не выдаст, если пес не съест.* * * В этой сырной, золотистой, разлинованной стране ходят лошади по мне, шерстяные аметисты пробирая по спине. Гуси Нильса унесли от воды, не от земли, просыпая коромысло, просыхая там вдали. - Вдоволь снега и огня, вдосталь пепла и меня, и лечу туда за ними, остывая и маня.* * * Восток, восток, зачем тебе на запад? Куда, восход, уходишь ты однако, восторг любви сжимая под пятой, как под могильной лакомой плитой. А перепады стран - не передел. Как мало лиц, не протолкнуться - тел, как мало тем, и тем я нелюбезна народу, что свята и бесполезна. Найти по запаху, стоять на лапах на четырех, на задних - и на запад.* * * Продувают, как флейту, канал, он губам заблудившимся мал, отражается в нем одичанье и забытого слова звучанье. На лету золотит воробей: остуди ты меня, не убей, не стряхни покривившейся лапки с мономаховой лаковой шапки. Я его на ладонь подсажу, да последнее слово скажу.* * * Золушка, так больно после бала выбегать на рыночную площадь. У корыта ветер смерть полощет - у него домашняя забава. Для моей незащищенной шеи в Амстердаме крючья - с каждой крыши, чтобы я себя тянула выше от жилой прокрустовой траншеи.* * * Как приторен инцеста вкус и пуст, осыпался куст розового масла, тебе передают из первых уст, чтоб над собой взлетел и надругался. Куда уж ближе сумрачной души двойное неразлитое движенье, дрожанье слова - по воде кружи до перехлеста и до отторженья. Все «ja »да «я »с укусом неземным, от ячества далекая разлука, рука в руке, как за стеной - за ним, когда ружье в обоих бьет без стука.* * * Улыбка жалкая взывает о любви, уловка жаркая напрасна, все ей жутко, - гряди, не расплескавшаяся шутка, в моей груди клокочут соловьи. Давай сожмем еще пружинку души, фальшивящей от боли, и раньше завершим ошибку под мельницами в синем поле. А наклонишься над каналом волшебным - сточная канава, а чуть помедлишь над душой - дешевка, да и сам - большой.* * * Не уговаривай себя, лошадка, - как душно, шатко, зачарован сад, и нет пути вразвалочку назад. Сиреневую воду кружевную твоих каналов - и на пену дую твоих решеток золотых, где ледовитый мой оскал сползает с обрыва, а туда нельзя и там нету лодок заводных.* * * Белое счастье вышло из моря ледовитое, домовитое, но под июнем теперь оно мокнет, синей крапивой увитое, гуси глядят ему вслед и кролики, не боящиеся гончих, - какое оно теперь стало крошечное и слезами тебя щекочет.* * * Укол магнитный в сердце, уголек, серебряная музыка в кулек черешней гуттаперчевой ложится, и мальчик опрокинутым лицом в силках не бьется и на снег божится. Монашек пьяный вынужден ползти, вторую смерть по жизни обрести, грести на ощупь, плача против ветра и пряча виноватые глаза, в которых спит третейская гроза на восхожденье нового завета.* * * Гармония - не в вылизанном слове, на бриллиантине твой настоян волос, он тонок, обесточенный, как голос монашеский и вскинутый в алькове. Полынь имеет одичалый вкус, так родину несет в себе отшельник и висельник, - я и сама боюсь - не расплескать ее, разжав ошейник.* * * Растревожить монаха - и вся-то земная корысть, мне посредника с богом не надо, и церковь - долой, возвращаться домой, чтобы землю соленую грызть, чтобы вдрызг нареветься еще не взошедшей зимой. Я грешила во сне, - лишь бы праведной слыть на свету, - не за ту выдавая себя и столетье свое. Как звенит эта ночь! преступив меловую черту, покидаю себя, как беглец оставляет жилье. Пусть тебе отоспится на этих крутых берегах, пусть не нам отольется за эти созвездия яд. Спотыкается путник, смиренье глотая и страх, в одичавших глазах облака и сугробы стоят.* * * Там, где во времени я разминулась с любовью, кто то стоит за спиной моего изголовья, слева зайдет - и я слышу по шороху смерть, а заслонится правей - это ангел хранитель не допускает свою прихожанку в обитель, ниспосылая под ноги вне времени твердь.* * * Раз жить нельзя в тебе, - хоть умереть, , Венеция, манок мой семиструнный, и я - у ног, и голос мой простудный умолк, чтоб ни о ком не плакать впредь. А в горле - ком, - о, рваная душа из лоскутков, о, ровное дыханье и облачная поступь, - не спеша проговорить последними стихами.* * * Меня ломает с тусторонней силой не то что травка, - сенокос на воле, когда душа - на переплавку, сипло крича от боли.ИЮЛЬ
Среди колес колосьев и соломы мелькает крыша брошенного дома, где каждая ручная половица мне отвечает, как молчанью - птица. Не открывай нам, Господи, глаза, да оторви же радужные крылья, чтоб маску не принять за образа, грозу глотая с памятью и пылью. Но мне не нужно отпускать грехи, я так хочу - качаться на ветру и отпевать последние стихи, пока за ними не умру к утру.* * * Что делать с одиночеством своим, бессмысленным, постылым одичаньем, ненужностью, когда себе велим так гордо соответствовать молчаньем. . В твоих руках нет силы для меня, разлапистой такой еловой ласки, когда - глаза закрыв при свете дня - проснешься - ночь, ни шага без подсказки, ни шороха. От хохота в слезах, хозяйке бала на чужом застолье - царить, покуда неизменный страх в глазах не выдаст, волком не застонет.ОТПЕВАЛЬНАЯ
В кашке белочка лущит орешки, а в груди щемит по смерти - как прежде, все пытаешься подняться под дерном, да под ветром этот камень подвернут, на три стороны крестом, а четвертая упирается шестом в мертвую. Да живая, да жива, белочка, все по ягоды бежит девочка, черной кошки обойти силится, платье тлеет по пути ситцевое - не рассчитано на жизнь долгую, что в зажатом кулачке дрогнула, эта ленточка от сына и мужа, папы с мамой, - а еще нужна кому же?* * * Я, покупая, продаю звезду высокую свою, слепую душу. Певчий стан разглядывают сквозь стакан у стойки, где по стойке смирно меня с попойки донесли туда, где не прилипнет скверна ни подземелья, ни земли.* * * Могли бы вы на перекрестке верст вот так тянуться из последних звезд?* * * Мы сочтемся после смерти на колымском черном льду. Тятя, тятя, наши дети, - я сама к тебе приду. И в ответ, кого замучил, кроме сына и отца, - на звезде твоей падучей тень любимого лица. Ты какой породы, ветка, с кислой завязью молва? Заслоняется от света, засучивши рукава.* * * Моя душа, взлетевшая на звук, заблудится однажды и растает, моя душа в противоречье злу всё обретет, когда меня не станет. Она от слов топорщилась и нот, растягивала паузу меж югом - и холодом, собакою у ног оттаивала и презренным другом считалась мне, над розовой звездой пульсируя, как в поисках нектара, куда меня влекли на водопой танцовщица, добытчица, гитара.* * * Смешную мою старость я уже от усталости вижу сквозь одинокость и стадность, от которых еще завишу, и там вишня висит - качается, в том саду на той родине маленькой, где со мной только смерть встречается, золотая моя мачеха.* * * Зэчка, зэчка, под кирзой зычно песню допоем, что серебряной грозой нас ведут на водоем, водопою не бывать, водопьяной не доплыть, а ведут ас убивать, потому нас е добить, не добыть слезы от нас, потому что ливнем след, и свечою между глаз расплывется белый свет. Зэчка, девочка моя, от сердечка а вершок стынет олова струя, да мешает вещмешок.* * * По болоту, ковылю, от полыни, от кобыл не шагала, а люблю, злую бабочку ловлю между брошенных могил. Сосчитаю их до ста, вытру мертвые уста, одного еще окликну, разделяет нас верста, обмахну травою плиты, да одна из них - чиста - нет ни слова, ни креста. И обратно через лес мне придешь наперерез.* * * Ты вернешься в пыли и ромашках, на груди ты рубашку не рви, и меня за любую промашку только девочкой милой зови, я в крови запоздалого неба уплываю, руками маша, как в реке, где раскинутый невод поплавками качнет неспеша, возвращайся на берег, на берег! На другом берегу снегопад к высшей мере, - да я и не верю, что мы оба вернемся назад.* * * Окружила траурная свора. - Скоро, споро. Приговора мне не занимать, как травы чужой не заминать. От меня на пепелище пыль, золотое приторное слово, по которому звенит ковыль на краю болота снова, где блудила я, блуждала тень, эха нет, растает белый день, и улягутся цепные псы, к небу вздернув сытые носы.* * * На что ни жалуйся, что не проси - расконвоировано пол Руси, ты по какую сторону плетня идешь расстреливать в упор меня? И синий номер на моем запястье не принесет ли нам навеки счастье, когда гроза посмертной канонадой ответит им, что и стрелять не надо.* * * Этот оберег на берег вышвырнет вода сырая: как ты, пленник? - не поверит, на моем костре сгорая, - . где-то есть земля - колода, без нее четыре года на беспамятной войне всё ж вольно сражаться мне. Напою коня в воде, поклонюсь нигде звезде, зазвенит уздечка: стой! свой идет на водопой.* * * Слушай, золушка, Фемида, упусти меня из виду, дай вернуться босиком с перелетным косяком. Будет ливень мять ковыль, колыбельной мятный запах, на пути вздымая пыль, просквозит на задних лапах, колокольчики примнет, напоит слезами клевер поцелуя горький мед отнесет меня на север и, аручники встряхнув, громыхая рыжей цепью, отойду и я ко сну к твоему великолепью.* * * У фонтана пчелы пьют золотистую разлуку, разлинованный уют, перевинченную муку, не ходите, дети, вброд мимо жизни у ворот, эта боль не дольше смерти, просковозит круговорот, где освистанные черти ветру пальцы сунут в рот. На ступеньке башмачок, подломился каблучок, эй, возница, чей ты, чей ты оперся на облучок?* * * Восток, восток, ты - мертвый запад и между строк дразнящий запах, восторг отпущенных грехов до завтра, в инее отчизны во имя зла, железа, жизни и недосказанных стихов. Кровавой песней муэдзина колес дымящая резина на запах масла и бензина стелилась радугой в пыли, а мы влекли друг друга строем и по губам читали строгим на свежевырытом остроге те строки неба и земли. Вперед, восток! от кипариса шаг влево - серебрятся листья так лисьи выгнутых ветвей, и тополиный пух до тленья напоминает наше пенье и преклоненные колени свободы, дерева верней. Шаг вправо - волны назывные, войны бумажной позывные, и бумазейные бинты, вода в граните волком воет, и точно век не видят воли ни я, ни он, ни я, ни ты. Чужбина золотко, за тридцать. мне хорошо, и серебрится не только веточка в глазу, а горсть земли родной сквозь пальцы сочится, и продавлен панцирь у снежной бабы на возу. Да нам не легче. Спи, отшельник, не висельник, а трет ошейник, волчонком в сторону гляжу и в полнолунье все по русски я вою по своей кутузке и чищу лезвие ножу. Мне скучно жить! Мой падший ангел, все кувыркается а штанге той перевернутой губы, что над мечетью перевесит иные волости и веси твоей отверженной рабы. Слетает ангел то и дело и потрошит пустое тело, а доберется до души - она на дудочке играет и ни за что не умирает в пустыне, полночи, глуши.* * * Без нас, наклонившись над Темзой, коня напоив, незабудки бросая, - всё в Лету входя, без нас, над Невой зависая, без нас к Иордану, босая, над Сеной без нас, проститутке без шутки - по русски твердя. Без шубки и муфты, в рубашке, а вот эшафоту - не страшно, еще не такую вели, с утра побегут - это крысы в 4 облепят карнизы. и падают в небо с земли. Предав и уехав однажды, не вылить, не вылечить жажды, в тумане склонясь над рекой. По Лете плывут незабудки, где с вечным покоем на сутки из камеры машут рукой. То капает в нашей стране, а топает вечно за стенкой, сроднив и с тюрьмой, и с системой, и, верно, опять на коне.* * * Ю. Вахтерову, убийце 1 Не доверяю старикам. Простудно вглядываюсь в лица. С самим собою - по рукам, ну как себя не убоится пред зеркалом, перед свечой? Когда б он не был палачом с нечеловечье волчьей хваткой! Но у меня - его повадки. А вдруг он врет, что воевал? Очки вбивая, коновал, он убивал на пересылке родных моих, - прильну к бутылке, и боль в затылке, об косяк я размозжу кулак, - прости мне мои молитвы - ваши гимны - ловитву, выволочку, флаг. 2 Когда он друга заложил и мать сгноил на Колыме - . он не грешил, он дело шил потомкам ветреным в тюрьме, чтоб неповадно было мне забыть, ищу я на параде породу эту, стукача, приставлю, пристрелю к награде - сплеча - я всматриваюсь в эти лица, склоняя голову пред ними. А ночью строй герой двоится и откликается на имя.* * * Стаял снег с могилы, - милый, как во льду тебе спалось? Я тебе не изменила, мы не вместе - и не врозь. Жить на свете тускло, больно, да когда еще - взлечу! Я иду себе привольно по весеннему лучу. Под черемуховый ворох, под черничный перебор подставляя рот и ворот всем смертям наперекор.* * * «Синеглазка », менторская бричка, от бензина вспыхивает спичка, от огня померкли васильки, - виновата: косит ностальгия и в дыму коси . из под руки. Били валенком и белым снегом. Помаленьку шел, пушистый, с неба, на сей свет нимало торопясь, будто знал, что всё, что будет с нею, обернет любовь, остывши, в грязь. Мы месили весело, просеяв там, на родине, всё незабудки - к василькам в колосьях, и доселе вскакиваем от побудки.* * * Не от оклика я взмахну рукой, тает облако под твоей щекой, самолетная мята влажная, правота твоя бумажная о булыжную стукнет улицу. И стоят они, и сутулятся, в небо лица их запрокинуты: или птица там это, или ты?* * * Чтоб эти камни прожевать, не продавить собой кровать, где приживалкою наверстывала юность, я пролетаю меж берез, а ствол на севере оброс, куда ни денусь и куда ни сунусь. Я задыхаюсь в лепестках, но север ладаном пропах, - его отмолят, а перед смертью и меня оденут, плача и кляня, - да не отмоют. Я так бежала босиком, я поперхнулась колоском и плеском речки, где так недвижны и грустны глаза мои - под стать блесны и черной свечки.* * * До лета дотянуть, а там - на перепутье - прощай, последний путь, на замершей минуте! Обложен с четырех, на сторону не смотришь, малиновый зверек, ты освежен и сморщен, ты освежеван, свет, ты освящен посмертно, исколотый поэт, исполосован веткой. березы у ручья на севере, вестимо. Не выиграл. Ничья. Гори неугасимо.* * * Обложили. Стертая лыжня - ближе к Риму, чем к родному дому. Отложили, заперли меня, и бросали то один другому. Отложной воротничок содрав, шею мылит не к гостям соседка. Отпущу на ветку, за рукав: улетай на волю. Это - клетка. Самолеты стелятся дождем. Обстреляли снова школу сына. Мы дождей уже полгода ждем. Что такое снег? - Тепло и сыро. Камни пролетают вороньем с двух сторон, свои или чужие. Мы не спим, не помним, но живем. Мы еще всей боли не изжили.* * * Сукк a из сучьев. В ней опять сучатся, сучат ногами и кряхтят в молитве. Мы расстаемся, милые, врагами, я ускользаю ночью от ловитвы. Но я люблю вас, - охранив строкою, я оберег повесила на стенку - как раз на крюк, там красное сухое теперь уже нечеткого оттенка.* * * «Русь, ты вся - поцелуй на морозе ». В. Хлебников. Ни мороза, ни Руси, память - господи спаси - приведет меня на паперть, постелю на поле скатерть, раскидаю васильки из под правая руки. Птицу лебедь обескрылив, из под левой пулей вылью, перья выдохну, смахну, что то прежнее смекну. Что искрился снег до слёз, да из кринки лед молочный целовал с утра взасос, разрывая губы в клочья, - размораживал сердца - ни начала, ни конца. Предо мной лежит дорога и бесцветна, и убога, я нагнусь ее поднять - и спины не распрямлю. Я могла весь мир обнять. Не жалею. Полюблю.* * * Я тороплюсь, пока не достреляли. Я так спешу, пока не дострелили. Пока еще огонь дрожит в запале, и дети притаились в одеяле, и медвежонка взять к себе забыли. В тебе твой дом, и родина твоя, как родинка, налипла на щеке, и все березы, грозы и поля зажаты крепче ветра в кулаке, а этот снег - он солонее слез и детской крови утром на подушке, - не от него ли проберет мороз и задохнешься, выронив игрушки.* * * Мышью бешеной, заштатной, затухающей свечой, не шепчи его обратно, отряхни через плечо. Ложью кожу будоража, воскрешая память - пядь, прокляни нас, матерь божья, отпусти по свету спать порознь. Краешку могилы одеяло подверни. Да верни обратно - милый, мы бессмертны, мы одни!ДВОЙНАЯ ЭПИТАФИЯ
В августе дохнут псы. Холодеют носы. Кончается лето. Это вино перебродило, и дёрн, - за четверть века дёрна не выдерну: нету, и нет четырёх сторон. Ориентир - глыба гранита - сброшен в обрыв, одуванчик небо колет стеблем, и торопится через дорогу обожаемый и обнаженный мальчик, не зная, что след - обожжён, и путь - застелен. Потонула в снегах могила моя, готова. А я не спешу, переписываю полустанки и всё о любви вопрошаю в темень: кто Вы, осмелившийся помянуть живые мои останки?* * * С ума сойти? Так не дали ума. Решай сама, чем взаперти канючить осень. Всё лучше - оземь, да и то, - тюрьма, и не было пути, поди, и вовсе. В окне - зима, в чужом, а я - в огне. Нет у меня ни бога, ни порога, ни дня, ни ночи, ни дитя, ни прока, - ни дочери, ни сына нет во мне. Зато во сне, когда б он снизошел, просвечивают и звенят осины на синем фоне, и на этом синем мне так неотвратимо хорошо!* * * Народ мой! - Кто? ? Народ. - Какой породы, что не раскусишь, не раскрошишь камень? - Хорошей, если с нами. - Если пустишь. - На пустоши переменяют знамя. Земля - за нами. - Что? Ничейный тракт, нейтральное созвездие в канаве. - Хорошая, когда б ее не так утюжили и ущемляли в праве. - Кто? - Мы. И день взойдет из этой тьмы и освятит предместие тюрьмы.* * * Девочка бросает старика, у него ни силы нет, ни денег, и дрожит замшелая рука - и не защитит, и не разденет. Он, старик, не перейдет на крик, он в слезах и в облаках парит, меж страниц засушенные розы. Девочка проста и хочет прозы, и об этом прямо говорит по еще живому, без наркоза.* * * Ты ли, ты, мой ледяной дом с щеколдой за спиной, за щекою камень? Я вернусь к тебе луной полотняной и льняной, и мы вместе канем в то живое никуда, ту жилую небыль, где залетная звезда теплится, как нетель, и с петель слетая, дверь открывает настежь или душу, или две в белое енастье.* * * Ходит месяц у плотины, ищет мелкую плотвицу и сияет, как полтиный, что не хочет появиться. Что ты видел там, на небе, что ты ведал, где ты не был? Как ты мертвых созывал тихим свистом, теплым светом и нанизывал слова, призывая их к ответу? Слово лживое - любовь, или траурное - верность, отвернись, не прекословь, это, милый, эхо, - вечность.* * * Это ласточка услада, это веточкой венозной занозило узелок, - там на память было к полу пригвоздило потолок. Бьется ласточка в глаза, и гроза за ставнями, что заставила, что за всполохом - за сталина отплатила вдалеке чужестранной вишенкой, - мной, зажатой в кулаке, не пове , завишенной, - в мокром сумраке кружа, припадая к тюрьмам, вас, родные сторожа, отпевать ноктюрном?* * * Кони ходят по росе не разнузданы, не все, вот один спустился к речке, рыщут в речке человечки, вот один лежит на камне под водой - его догоним, вместе вынырнем и канем, и не скажем, что утонем. Челки конские роса окунает в небеса. Конь один глаза закроет и копытом землю бьет, ничего там нету, кроме горя, дали, гари влет.* * * Ветряная мельница, раскрутись обратно. Не сестра ли мечется, подзывая брата? На брусничной улице в дальнем далеке поле ли аукнется в сжатом кулаке? В молоке рябиновом, где лежит на донышке Маша - в двух шагах, это осень имени - от небес, не дольше, - а не дошагать.* * * Как тебе, моя сестра, под землей малиновой и кленовой, у костра свечки стеариновой? Это ласточки летят разбудить от солнышка - что ты, Золушка, дитя, белая ладошка, не проснешься до утра, сына не накормишь? - Отпусти меня, сестра, - тонешь, тянешь, помнишь.* * * Зимний хамсин. Свободные братья арабы, трисы снимите с петель, и меня обнимите мертвой петлей зеленого нашего флага. Хлещет шараф, клин клином тебя выбивает, по журавлям стреляет прицельной наводкой. Не догоню свое облетевшее счастье. - Кто нибудь, рядом!* * * Арабка в тапочках, мешке со стянутой веревкой. Ей в этом сдавленном смешке невольно и неловко. Она плывет за горизонт, размазана, как клякса; над нею небо держит зонт раздутого Аль Акса. Разутый муж глядит во тьму войны и упоенья, и что то ведомо ему - едва - о раздвоенье. Она вед o Навзничь спят простуженные дети, и боль на убыль, быль на спад, - она на этом свете вкусила меда и греха, - так мыльную удавку, перстнями черными гремя, мы скинем, драя лавку.* * * Нет у мадам под юбкой ничего, а у мамзель под юбкою рука твоя, и со стола сползает скатерть, и на полу собачке невтерпеж, она такой же, что и ты, искатель, а в остальном - ты на меня похож. Мы оба никого давно не любим, и подставляем приторные губы, и продаем воздушный поцелуй, и так же пьем безмерно, кость валяем, и в стаю сбились, и хвостом виляем, и в небо смотрим, и скулим в углу.* * * Две родины и два любимых, пустынным облаком гонимых, похожих обликом на боль, в снегу извалянных по горло, изваянных - ты знал их, город, я опоздала, - бог с тобой. Куда держать мне путь постылый, державой выгнанной постыдно, какому стаду я прибьюсь, и кто всплакнет, а кто осудит, когда не станет лиц и сути, и бога я не убоюсь.* * * Покаяться, покаяться, покатится душа. Пока еще бока еще не мяли, - это что! Не встретиться, не пятиться, стихами поплатясь, но видится, но знается, что станет впереди. Пока рукою правою отсечь по руку левую - безглазою, безглавою, а выше - королевою. Как вышивают крестиком по кладбищу, по кладбищу, а выживают - если бы, не ты, не ту, не та еще.* * * Не обижай меня, не стоит жизнь оскорблений на ветру, еще восход - и успокоят меня, любовницу, сестру. Луна качается на ветке. Где я молчала на плече, там снег идет, и свет неверный растаял в солнечном луче.* * * Запрыгивая собачонкой на стол хозяйский, на алтарь, принесена я в жертву, - черный и вечный полнится словарь. Так дожи выступают, - боже, и ты похож на них, а дождь один снимает кровь и кожу и страха преданную дрожь. Плывет Венеция - кораблик, и смертью пахнет колизей, пока оплакивает зяблик на родине моих друзей.* * * Я все думаю, как ты позвал меня в эту минуту меж кувшинок и лилий и линий индустриальных, и вода захлестнула - так иллюминатор каюты, под водой отраженный, молчит навсегда в наших спальнях. Это спальный район и спаленный вагон дальнобойный в чистом поле от шпал отрывается и улетает, но один пассажир, неустроенный, мной недовольный все плывет за окном где то вровень с луной и не тает. Пустота за душой, нерастраченный мой безбилетник. Шар земной развернув, дотянусь до тебя - это ж надо, у тебя столько ран, и у нас на исходе столетник, и с улыбки твоей все не сходит чужая помада.* * * Чем я тебе не услужила - я, жертва, легкая нажива, улыбка в нежных кружевах, тебе, бессмертному и злому? Но я то знаю, поделом мне, я для тебя еще жива. Листва упала на дорогу, а не подняться - слава богу.* * * Киношник пьян. Монашка в Бейт Джимале исправно крутит видео, но в зале католицизма скромных прихожан - из бывших русских - двое, комсомолка бальзаковская, да твоя ермолка, что больше красит лысины южан. Гряди, машиах! Им какое дело до суеты, когда в обнимку с телом до гробовой доски шагать легко, пока на север дезертиры птицы одни над государственной границей летят отсель, где - мед и молоко, но им вослед мы задираем лица.* * * Мой синегубый мальчик, снег тебя не охладит. Застрявший и продрогший смех спит у тебя в груди. А снег идет наверняка за нас в чужой стране, где тяжесть каждого листка аукнулась во мне, где на любой пароль ответ всегда - когда - готов, и где тебя навеки нет на мой неверный зов. О, этот снег бесшумней губ и призрачней огня, пока в тебя упасть могу - сожги собой меня.* * * Не притворяйтесь, старики, что вы не видите меня, я умещаюсь в две строки жасминной ночи и огня, и остужая лепестком разгоряченно тихий смех, я не жалею ни о ком и вспоминаю обо всех, чтоб вам ворочалось - спалось, чтоб вам курилось, - фимиам я заберу себе, насквозь вас видя и прощая вам.* * * 1 Простимся, если живы мы еще. Разверстая земля. Глумленье плоти. Изгиб у изголовья, где, прощен и беззащитен, - как вы там живете? Лежите как - по струнке, по реке сплавляют вас, карельские березы кривые прибивает, - гвоздь в руке саднит и остывает на морозе? Тверезый день встает из за угла, выстреливает в спину некрологом, с утра трезвон - утрата, ты - мала, а я одна с тобою. Ближе к богу замолим небо - Пристав, пощади, избавь от вечности и возвращенья, дозволь в снегу забыться на груди, даруя сим последнее прощенье. 2 Простимся, если живы мы пока - я говорю тебе издалека. Трефная родина, перегородка и деспотия женщины, страны и матери, что ей одной верны, и речи, просочившейся из глотки. От вечности избавиться - дозволь, я в одиночку грызла эту соль, не морщась отраженью и улыбке; продажная моя поблекла тень. Когда бы занимался новый день, и нас бы воскресили по ошибке - на дыбу, дабы небо превозмочь - я в силе превратиться в эту ночь, но с ней растаять и на том стоять мне - верни, Левант, неспешные долги, пустынные постыдные шаги оставь себе, воздай мне - расстоянье.* * * Не хочу лежать в России, где бы зимы моросили, - дабы силы уберечь, просочится в землю речь. Не хочу бродить в Леванте вечным странником, Вивальди вам на скрипочке водя, - убежать бы загодя и голландкою летучей из игольного ушка на угольный черный случай все глядеть исподтишка, как наяривают луны и шныряют по волне, заливая кровью юной голосенье обо мне безъязыко, да беззвучно средиземною тоской, пригоняя тучу к туче на развилине морской.* * * Я в яме Иерусалима стою по горло занесенной. Не проходи, могильщик, мимо, не дай вернуться мне, спасенной. Спать у тебя тепло и страшно, мне саван твой не по размеру. Я умирала день вчерашний, но я сама его разверзла, и не дотлела та страница, и не умчала та двуколка, что суждено мне сторониться из чувства памяти и долга.* * * Страну воздушную тревожат, летят автобусы на небо. Я, уцелевшая, быть может, рукой машу - вишу над нею внизу и вижу только угол, и перевернут месяц - Гоголь на нем лепил ворон и кукол из хлеба - жалобно и немо. И, распевая дружно кадиш, и забивая гвозди снова, я говорю: куда ж ты катишь, страна моя! Подай мне слово.* * * Бронзовый крылатый лев, где меня казнили, обрывали «львиный зев ». И шипы саднили от венка - не на века свита паутина. Свита сытая, рука властная, рутина, на картине той поры, на Пьяццетта нежной обтесали топоры бедные одежды. Что накрошат голубям на ладони талой? Нет Сегодня у тебя, и тебя не стало. Но Вчера мое, Вчера львиное, голодное ускользнет из под пера, вечное, свободное!* * * И скажите: Аминь! * Отец аш, царь наш, ** ничего не осталось - вода. Ведома, - здесь ты в каждом окне, а во мне - усталость, и всё дальше от дома. До Венеции плыть, а там - на север, где ищейки не ведают щебет райский этих кущ; где думают об отсеве и утряске. Из болота в болото вернулся город, с невской пеной у рта, как рыданье сына, - отощал, осыпался, вшив и порот, обречен, израненный - стыло, сыро. Я спою тебе, как большая птица, Новый год у нас, у тебя - поминки, этот общий бог - он сидит и злится, он пустил тебя и меня по миру. *кадиш **новогодняя молитва. Стаду снится: в Эдеме страда; страданья - все твои, стараемся как то выжить, а когда молиться зовут - о, дай мне не проклясть тебя, и подняться выше.* * * Меня зароют, как собаку, под забором, и отпоют меня собаки всем собором, - а я не сабра, я не гойка даже, - как же мы в койку ляжем? Когда взойдут звезда, и крест, и полумесяц, и надо мной склонятся боги в изголовье, они е бросят, - мол, откуда, - спросят, мне здесь не одиноко? И простят меня с любовью.* * * Тутовник облетел. О, ягода сквозная! Неистовый предел, разлука заказная, которой слаще нет. Крапива память жжет, и все заносит снег, и всех согреет лед. Из под него на свет глаза мои глядят. Что расставанье? - Нет. Что души? - Отлетят.* * * Гладьте, голуби, меня на широкой площади, среди крови и огня я кричу о помощи. Накрошу вам лепестков, косточек оливок, город был - и был таков от меня - счастливой. Марширующий оркестр, хорони помедленней, город белый был - разъезд, на глазах померкнем. На кораблик помолясь, ударяясь в эту грязь.* * * Одновременно под небесами Сикстинской капеллы и в петербургской помойке, в снежном Берлине и под руку с Белым, быть может, в душном приделе, в Храме у гроба господня - это вчера, или завтра уже, а сегодня - сыплет листву, словно милостыню, Злата Прага, между мостами плывет со стихами бумага перед войной. У Сикстинской мадонны мальчишки крыльями бьют, протыкая забывчивый Цвингер. Мама блокадница в драном хваленом пальтишке пьет от цинги что то мутное детское с виду. Это вчера - или завтра уже, а сегодня под небесами продажной раздавленной Польши сил нет ползти и кривляться на кладбище, - дальше я не пойду, возле прадеда здесь я останусь. Между семью ледяными холмами Московьи, между семью, отраженными в Иерусалиме, я забываю себя, и семью, и с любовью вам оставляю мое непреклонное имя.* * * Ура! война! не надо в школу. И наши танки, танки наши, по ним катюши бьют в песке. Музейный проржавел осколок, а с берега все кто то машет - веснушчатый, в одном носке.* * * Над землей распахнутой я стою распаханной. Промахнись, Иван дурак, братец мой Иванушка, с вышки виден буерак, отсырела варежка. Ты по первому снежку ну, пожалуйста, не бей, отвлеки, скажи дружку - пролетает воробей. Я тогда ползком ползком, я бочком, а ты - ничком, не при чем ты, босиком я по снегу, и молчком распростимся в колее, распластавшись на границе, ты мне сниться будешь, сниться эти десять тысяч лье.* * * Вокзал сказал. Вокзал воззвал: вези. В связи с отъездом неотложных дел мы мастера, - связал с тобой в грязи кромешных тел, - опять кромсают лист, он белым бел, кораблик тот, вагон невпроворот, а море то не то. Ползи, артист, а мы тебе вдогон да продырявим не пальто, а бок. А бог его не узнаёт, - чужой, - взашей тебя, замешен на крови. Что до любви - она была большой, она была. А что? Что до любви?ДВА ГОРОДА
О, русский город, молоко от одуванчиков! Давай-ка перезимуем. Далеко идут «Вишневый сад »и «Чайка ». А эта приторная речь, что разбивается о дамбу, ей волнорез - ей не перечь - ей ей, а берегу - подавно. Уберегая от волны, мы только в этом и вольны, брусничный лист прилип к странице из дневника, и между строк встает российский город - строг, велик - что не посторониться.* * * Мандельштаму выбивали зубы золотые дети - мародеры, вот и боль - она идет на убыль, да обугливается не скоро слово, выброшенное из неба, - заживает двоеточье нёба, влага ласточки и мясо хлеба виноградное - и плачут оба.* * * Живой не закопайте - у земли, закапанной слезами, стеарином, не хватит сил нести меня, вдали летящую от имени «Марина », не хватит сил - что гоголем, волчком, взаймы крутиться, птицей Мандельштамом* на руки дуть и отогреть ничком поверженных в пространстве долгожданном. Прости, земля! Тебя уговорив раскрыть объятья горькие, сухие, я промокаю строчку, отворив артерии - аорту и стихию.* * * Трясина Россия, терялась ли я в берегах, в бегах уповая не повесть закончить свою, - стою ли и вою, конвою открытая, - страх в июле - и я ли к тебе доползла умирать.* * * Не мое это время, земля под ногами чужая раскрошилась - хорошая, да не родная, - в пыли, от нее заслоняясь рукой и в нее уезжая, поднимаюсь туда, где совсем не бывает земли. Помяни меня, враг, - я без имени и постоянства, - *Есть свидетельство, что Мандельштама хоронили живым. я прощаю тебя и тебе благодарна за то, что мой век сокращал, изгоняя меня из пространства, что менял у сирот и последний сорил золотой. Не моя это жизнь. . .* * * Страх волка, загнанного в поле, меня приковывает к воле и не пускает на поклон душе твоей, горе Поклонной, - я за помин ее, влюбленной, к земле слетаю под уклон. Где птицы били нам и пели, ведут серебряные ели - в сугробах узницы твои - снег бумазейный растворится, и ничего не повторится - ни жизни нашей, ни любви.* * * Ну давай, говори, говорю, что в отчизне моей круглолицей кверху лапками спят снегири перед мачехой - мертвой столицей. Волка в поле загнали силком, приручали его батогами с материнским ее молоком выть от боли и плавать кругами по сугробам, и мордой грести от себя, по кровавому следу уползая, прощаться, - прости, я не еду к тебе, всё не еду, покаянно дышу взаперти на морозные стекла и таю. от любви к тебе - матерь святая - не спасает земля на пути, от себя не спасает земля - год пройдет, на могиле примнется. Не ломается волк и не гнется; отряхнут снегирей тополя, голой веткой уставясь в уста и объятия неживые, эту смерть я читаю с листа - поцелуи твои ножевые.* * * В этот пьяный город Луки уведут нас от разлуки две могилы столбовых, две дороги грузовых. Гробовой доски не видно - неповадно расставаться, дым рассветный, омут винный, где вы ныне, домочадцы? Не домчится в поле чистом злая речка - конвоир. Прокляла меня отчизна светлым именем твоим. Речка - речь в гортани трется, перемешивает гальку. Дай ты мне воды напиться, - под землей поется, - дай ка?* * * Душа так скрючена - не распрямить, земля так спаяна - не разогнуть. Распни - распятого не обвинить, а повторять ему последний путь. Поди - задуй свечу, зажми дымок, душа прощается - а всё жива. Окончись, век мой, враг, - сбивая с ног, всё не меня косил из рукава. Я добрела почти до тех осин, что шелестят стихи без языка. Позолоти, листва, - меня спаси, засыпь меня, запрячь меня, река.* * * И мы не обвенчаемся с тобой, я для тебя оставила Россию - там руки жали нам, как на убой, там горлом кровь и слезы моросили. В разгар ловитвы, но предугадав ее свершенья и разор посмертный, меня тащила память за рукав к сырой могиле волоком по снегу. Она всегда останется моей, разверстая в последние объятья на тридевять обугленных земель - мое проклятье, ваша близость, братья, ограда ваша и моя - постель.* * * /По мотивам И. Бродского/ Раз в месяц, когда сядет голос, и ты жалеешь - ты не в Италии, где беременность - это свойство, и отлынивать, и все такое, и так далее - ниже талии, это одно геройство, - как же ты не Мадонна? Но и не Пьета. Даст бог, раньше восторжествуете, дожи, - не дожить до скончания света, до кончины ребенка - о, помоги мне, боже! Это он - посмертная моя инквизиция, а дожди в Венеции предвосхищают слезы, и казнят сеньору в той же позиции, что срывают розу.ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Сойдемся, Саша, до утра, - к столу! Что, что волна бурлит у самых ног, и в речке Ловоть не иссякнуть злу, и ты до нитки - на века - промок. И ты, учитель мой, что изнемог в очередях, и там, припав к стене, всё изнывая прикурить в горстях, прости меня, не поминая мне. Там через год и через три - черес полосица, чертополох, а чёрт. не разберет земли сухую взвесь, да только так черно, - и мой черед. Стращай овчарок, заводи мотор, - поехали! поплыли! занесло, на родину вернуться до сих пор какому арестанту повезло? Мне 36, еще не 37, - а жаль. Не разменять на медяки сегодня ночь, и дверь открыта всем, и мне никто не подает руки.* * * В больной Голландии молочной, у Петербурга на виду, при жизни розовой и склочной друзья идут а поводу. Стоят у Иерусалима и уплывают мимо, мимо, одну молитву затвердя - березы, снега и дождя, где в эти сумрачные елки во сне все так же ходят волки, и цепь железная гремит, и в камеру несет баланду не Воланд, но антисемит, и рассекречивает банду еще не скрученный наймит.* * * На Стрелке, где коричневеют не то что ростры, а реестр и флаг, и сфинксы коченеют, и в двух шагах возводят съезд, - но и в Нью Йорке скачут белки и крошки трогают из рук, и кровь не требует побелки, когда на части разорвут в обрыве Иерусалима, поникнув, спишь - вниз головой, и карусель уносит мимо и дождь, и снег, и город твой.* * * Повремени! Я помню, листопад - примерно в этих числах золотистых, он, верно, в нетях чистых, голосистых и подающих голос невпопад. Какая птица с клювом до земли, отливом в этот заполошный полдень, не улетает, беглая? Продли полет мой подлинный. За листопадом остывает дождь, - не трожь его! ведь он еще не знает, что он растает, навсегда растает, и опадет обугленная стая, - и я, и дочь.* * * А были варежки и были, рябина ватная за рамой, и мыла мама, и добили те стекла, и слизали рану. А летом бусы из рябины, и не нанизывалось слово, и то наречие рябило, и то отточие знобило, и я его не вспомню снова. Я раскрошу его пластмассу и прожую его железо, там слёзы, лезвие, где клякса, и волк сдается возле леса.* * * Л. Колганову А на лотке горячий бублик, и на прилавке черный снег, Москва не то, чтобы не любит, - она едва ли помнит всех. И вместо нас прохожий месит, не то что в ботах, а не видно отсюда, - скудно светит месяц, и в облаках наполовину. Он раскрошил не то что птицам и кошке черной, и подружке, но запотели стекла, лица двоятся сквозь очки, и дужки обмотаны суровой ниткой, - да и Москвы уже не видно.* * * Как хорошо в сентябре умирать и на исходе августа. Будущую траву уминать, выпив любви для храбрости. И перестукиваться, - не стучать, и пересиживать, - не сидеть. Взяли тебя опять? - Молчать; возле себя раскинуть сеть. как паутину, - в огонь ли я, в тряске вагонной сдавлена, - властвуй, моя агония, мной на века прославлена!ПРОЩАНИЕ
Черновики - всё без помарок, у бога свет подмышкой ярок, но стыдно плакаться ему и птичкой биться о тюрьму. Там Гоголь волоком натаскан, так волк изглоданный обласкан, - изломанный мой карандаш; Италия - всё справа;слева - держава ласточки и хлева, и хлеба за нее не дашь.* * * Соглядатаи мои, не таите превосходства! Прорастая без любви, я растаю без следа, уступая первородство в голубеющей крови, - жалят голуби мои. Проходите, здесь хоронят, оттого и грай вороний, рай у бога на краю. Что ты, дудочка, играй, а я песенку спою.* * * Что гадать по руке, если все по дороге сбылось. Ты меня отпусти, я свое отслужила сполна, но под страхом, что снова начнется все это всерьез, я пьяна от берез, и меня затирает волна, забирает меня, да со мною не вровень, а врозь.* * * Подо мной змея лежит полудохлая, немая, но ее я обнимаю: свет мой зеркало, скажи, где зажаты рубежи? Додышать до них во льду свой кружок сама приду.* * * Знобит от слова, подступающего к горлу, я от умеренности плачу и смиренья, со мной прощается один высокий город и убирает сходни, как ступени. А санный путь от самого крыльца все возвращается к началу, где не предать и не продаться до конца, пока в пути не одичала.* * * 1 Послевкусие счастья - еще не преддверье конца, золотистые слезы сметает с чужого лица, что не станет родным, как малиновый дым за рекой, как малиновый звон, и как домом не будет покой. 2 Вот это мой дом, и мои половицы скрипят, и улиц ошметки, и лиц, и объедки зимы над солью земли, и обглоданный саван до пят, и все это мы, отражение света и тьмы.* * * Рыбка, нежная вещунья в камышах да камушках, ах, не надо бы, не надо б выходить мне замуж, ах, по матушке земле - величая пристава, глуше, суетней, смелей обнимать неистово. Он стоит, в чертополох опустив ладони - мой пожизненный, как бог - вороной, в законе. ИСХОД Тише песенки ручья - принимай меня, ничья, приникай губами, та лошадка вышла вон; ты непойманный, не вор - воин, погибаем. От ручных твоих гранат сотрясается гранит на туманной плоскости, и в Израиле кровит - от пустынной плотности, от постылой полости до постыдной подлости. Там в песке мои друзья разобраны на части, черепахами сквозя о последнем часе; наследили мы - дождя дожидая, ломтика месяца, что погодя из под локтя мечется - тише, не повеситься.* * * Так любить, что погибать, покидать под зарево, что зареванную гать вместе разбазаривать, на лоскутное стелить ливни и пожарища; как последнее, делить на себя - товарища. Пароходы погудят и войдут в окошко, где на лавочке сидят только кошка, кошка.* * * Когда ты плачешь на пересеченье, три части света подложив под локоть, твоей пустыне я своим свеченьем полярным отвечаю: нет, не плакать! Посмертно реабилитируют и эту песню лебединую, - где мы кончались, чуть дыша - поет летучая душа.* * * Человек бежал за шляпой в том году сороковом, ветер крышами прошкрябал и улегся в домовом. Что то правое предсердье не дает ему дышать, - слышишь, ветер, перед смертью станем старших уважать, этот верезг финских санок вспоминать по острию, бездыханный полустанок, - злую родину свою.* * * Жилистые ноги этой степной кобылицы, сорокалетней женщины, чья шляпа в шкафу пылится, и что смотрит жалостно так вслед конной полиции: а могли бы и мы, пожалуй, - если б мгновению длиться.* * * Еще не все сумасшедшие разбежались из отчего дома, напичканы димедролом, - вот эти женщины две задержались, и ни одна не уйдет к другому, и мальчик на фотографии так споткнется о порог родного крыльца заледенелый, будто конфетами ему потрафили и без конца открывают - закрывают его дело.* * * Ты плачешь в пустыне - а я отвечаю со дна. Нас двое отныне (забыла я, что я одна), так ящерка мелкая, к богу в рукав проскользнув, думает медленно и считает до двух.* * * В мой лепрозорий - милости прошу, - что изолятор, на свою солому. Распятой птицей на заре кружу все возле пепелища, рядом с домом. Каким он был? и был ли он когда? под снегом бел, и на круги вода расходится свои, на вековые, древесные, но не доплыть сюда, как ни мятутся тучи кочевые.* * * Скарлатина - лучшее из всего, что осталось, сбитая простыня и опасная температура, и малина в стакане, и собственная стадность, и нянина старость, встревоженная под утро. А будто и не было детства этого мимоходом, грозы венозной и молнии на обоях, и мы вовсе не из земли, и мы не оттуда родом, откуда вы думали, и довольны собою. Все у нас получается с первого раза - фраза, и самоубийства наши, и затем вокрешения, и что вы никогда не узнаете ни по профилю, ни по анфасу, какими мы были счастливыми до своего рождения.* * * От Черновцов и до Бердичева родную речь я увеличила, и обезличила себя, а подмигнет мне мойщик стекол - мы умираем все к востоку, к восходу песенку сипя. А улыбнется старый клейщик афиши с именем моим - ну что, что стерлось, - вон как хлещет парижский дождь, неумолим.СЧИТАЛКА
Самовар - старовер чудил, чадил. У тебя в голове кипел чефир, из газеты самокрутка, чтоб одеты да обуты, чтоб не капало за шиворот, чтоб не падала завшивлена, доползла до нар, изо рта был пар на осколок зеркальца - скомканное детство, до земли пригнулась под ударом юность, в ватнике неброском - в бересклете взрослость, десять лет и десять - в бересте, в газете, ну и что осталось - на сдачу, на старость - вмерзло в лед, подбито влет, самовар - самодур шишками надут, шутками набит лоб, - звенит. Выйди вон, душа, - ша!СУДЬБА
В Иерусалиме в будущем году я повидаться с родиной приду и на три части разделю по братски арабский, русский и удел свой рабский. И я просилась ночью на постой, детей спасая на Земле Святой, и я себе простила этот бег, и я тебе сказала: этот бог - он все поймет, он тоже человек. Но застает нас прошлое врасплох, и детям вечно в поднятых руках нести мое проклятие и страх. Им, выкрестам твоим, в любой стране дорога - в гетто, сторона - в войне и лагерь без начала и конца. Есть отчество в отечестве отца. Но даже их отец, антисемит, меня ни в чем теперь не обвинит.* * * Как Моисей, не ведая иврита, - заикою в России я зарыта. Мечеть Омара ближе и родней, я - жертва принесенная под ней. Но, отлетев листвою от берез, щекою помню тлеющий мороз гранитных плит - и белых стоп ожог, военный нержавеющий движок.* * * Это бог наказал меня за кощунство и членство (мужчины, восстаньте! ) Это, братец Гийом, твое отраженье качается в Сене, кончается в Лете. Замолчи, как в молельне глухие монахи Латруна, между танков раскинув колени и руки вздевая. Только бог и приходит ко мне по ночам оголтелым, - по делам узнаю.* * * Быть брошенной быть скучно к тридцати, - и жить не ново, и стареть негоже, и помереть, - да нет у нас пути, и разминуться непристало, - все же мороз по коже (наконец мороз! ) А накануне нас встречали врозь.СОСЕДЯМ
По контрасту - кастрат от кашрута (Саша сушку сосала, - мой бейгале! ). В постном масле греха и кунжута мы по палубе белыя бегали. Папа пел колыбельную, - палуба! где ты, папа? ласкал мои локоны пятилетние, - как я упала бы (я, пожалуй бы, тоже бы сплавала! )- засосало меня это логово. Я упала к ногам бы, закованным по колени сугробами вечными: покалеченными поколениями были мы, или первыми встречными? . .ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (2)
Ну как же, до ста двадцати ! Типун тебе, милый, и стенку. Я жизнь соскребаю с кости по запаху, вкусу, оттенку. Мой хадж завершится - в ружье! и мой лапсердак отслоится. Им нужно - а ну же, живьем отпетую, хищную птицу. Сухие дожди по губам в час между собакой и волком - ты русская, так погибай, из логова выход - из Волги направлено дуло поддых. Веревка, виясь на примерку, окрутит и единоверку, а чуть подлиннее - двоих. .ПРОВОКАТОР
беэр шевцу Илье Боец невидимого фронта, откуда выправка и фронда. Хотя, казалось бы, бойцу перо петушье не к лицу. И ты привычными руками меня вертел под облаками, - скрипите, перья, длись, допрос, тут продают живых вразнос. Так, отодвинув мертвый камень, и под землей меня достанем.* * * Фалафельщик вышел на сушу, мне вывернул падшую душу, у нас рукава золотые, за нас муравьи в обшлагах, солдатки мои заводные за нами следят в двух шагах. На этой скамейке холодной туманным растерзанным утром одной - виноватой, залетной под взглядом свинцовым и ртутным.* * * Вам от плахи для паха в пуху - ощип кур некошерных дотошный - отползая, вздымать к потолку невысокому профиль раешный. Или палец сосать голубой, в рот набравши воды, и от страха всех, кто против, свести на убой, не стыда опасаясь, - растраты. Я копнула - лопата звенит, что еще там зарыто от сглаза? Вытираю о русский гранит, как порезы - приказы. Проказу.* * * А я на мусульманской стороне, распята на три стороны по ветру, дышу вольней, и непристало мне себя публично требовать к ответу. Тюремный разукрасила забор, мне не к кому взывать, но за кого я прошу, когда защелкнули затвор вы, братья, вы, служивые конвоя?* * * Лоб - медный. Для сквозных уходов дом - мертвый. Облетит, и тело захватано, и мелом чертит от горечи круги на море. Даль - идолом в углу изгоя. Дым - пугалом, упавшим в поле. . Тыл - облаком под рукавицей. Боль - блеклая, о ней - ни слова.* * * Ни стола у меня деревянного, ни могилы, где то родина какая то заблудилась, на наречии бестолковом смеется птица.* * * Не стойте и не подходите близко - за нами родина, но обелиска не избежать, и хватит лагерей на вас - и к небу я склоняюсь низко перед детьми за мертвых матерей.ПЕСАХ
Знать, притворяться, в любовном терзанье зайдясь, бога целуя в сухую и волчую пасть. Хлеб жгут, и запах туманом ползет по утрам. Есть просит Запад - принюхивается к ветрам. Там моя мама к блокаде прибита дождем, яма моя там разрыта, и в ней чернозем сладкий от складов бадаевских - так его жгут, как над пустыней кровавой знамения ждут. Бог отирает от пыли свои башмаки, тропы морщин у его растревоженных глаз. Много мужчин я ласкала не раз, но руки Вам не подам, упадая в отверстую грязь.* * * Ты обещал мне встретиться, и вот - мы встретились, я и твоя могила, и оказалось, я тебя любила. Когда пейсатый странник полоснет меня навозным взглядом, услаждая, я понимаю, что еще жива я. Но ты стихов просил, и я пишу. Я за тебя сама дожить спешу.* * * Заезжая актриса, любовница ничья, больничная сестрица состарится, влача. врача за колокольню, от черепичных крыш отколем небо, - больно ты под землей стоишь. И, на разрыв пытая, поет она - не я - невольница, святая, свободная, твоя.ХАМСИН
Хина невыдержанных маслин и хна передержанного сена, завтракать луком и ужинать ничком, кашляя кровью, - одуванчиков лечили в чужом детстве молочком горячим и во сне укрывали. Перегорело в груди золотое пламя, ходит вода у порога горького моря, я - утону, а ты - выбирай средство, это лекарство, летучая мышь - к лету, не раскрывайся между войной и смертью.ЭЛЕГИЯ
На пенис минарета голубой садится птица (где мне? ! Бог с тобой! ) Но в будущем году в Иерусалиме хитон доглажу, поменяю имя согласно звездам и, пронзая твердь, я наконец, малыш, примерю смерть.* * * Еще прощай, заученная карта, твое вчера всегда стучится завтра, не дописав подветренных стихов, - сужайся, круг, а ты, душа, мужайся, но и в огне с собой не разъезжайся, когда выходит смерть из берегов.* * * Мазут на шпалах - все, что от страны отстранено, обляпана соляркой, облапана любовью и солянкой, причем жива, приучена стоять все насмерть, приручать себе больных протяжных, и по насыпи стремиться за земляникой - где она двоится из под колес и падает поддых.* * * Не успеваю перестелить постель - двери срывают с охрипших пустых петель, юноша пляшет в раскосых моих глазах, сейчас он скажет, что не придет назад никто, а некто улыбается мне в тени, вчера он не был, и не были мы одни, звенели стекла - рюмки, и кровь, и снег, южная елка, искусный искусственный смех, мех капюшона, аромат крюшона и хвои, и голос: - А с ей хорошо на вечном покое.* * * Когда мой муж поспорил на меня, я на крыльце раскидывала карты в черемухе, и мне еоднократно все выпадала дама пик полдня. Он целовал меня и, щекоча усами, лепестки сбивал фуражкой, а друг его, как дуэлянт вчерашний, не дрогнувши, глядел из за плеча.ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЭМА
Ю. В. Господи, прости мне перед молитвой это затмение на коленях неискушённых, это венчание, спутанное с ловитвой, это свечение от ресниц, опушенных пеплом желания. Так забывают слово, так от прошлого отряхивают подошвы около церкви, не вспоминая злого, но - подашь ли? и - меня подождешь ли? Где то мы и впрямь встречались у смерти, где то нам и впредь расставаться у жизни. Это ты грозил мне и вел с усмешкой, это там, где нет ничего ужасней, - ты вершил, железный мой небожитель, ты плясал на братской моей могиле, на постели пел моей, обожатель, у постели, где мы одни, - могли мы всё, что глиной рот залепил крамольный. Что ты, господи, сыт ли уже, доволен? Посмотри, вот я обмерла под лаской, и объятья мои - что твои колокольни, что проклятья твои над вагонной тряской. Мы по нарам ползали, обтирались, белых вшей мы потчевали собою, - у тебя ли мы вызывали зависть? зазывали ревность такой любовью? Завывали, конченные, под пыткой, мы с тобою в клетке играли в прятки, ты от слёз катался на верхней полке, ты, смеясь, не слез, воспаленный, пылкий: до сих пор не умерли, - всё в порядке! Не подам, не приму ни гроша, ни руку. Подчиняй же, дай по крутому крупу, изнасилуй меня, что свою подругу, начинай же, бей по второму кругу, - так и будет от пота лицо лосниться, правоветь спина, кулаки сжиматься. Что ты думал, тебе эта Ницца снится? Просыпаться пора, - Соловеет, мастер. Тогда случатся Соловки, чтоб никогда не разлучаться, чтоб достучаться - вопреки - туда, где спали домочадцы. Избавь от призрачных утрат, мне до утра дожить не выдай; навек раскинувшийся брат, не упускай меня из виду. Отстранена от преисподней, я так люблю тебя сегодня, ощупывая лоб: тепло, и прижимаясь ближе, ближе, - но как ты после смерти выжил, пройдя зеркальное стекло? Повремени ка, болезнь моя лучевая, вот Эвридика талую ягоду нижет, дышит протяжно любимый мой, почивая. Я, уходя, наклоняюсь к нему ниже. Не облучает меня по ночам солнце, не обучают меня среди дня сестры. Только текут из песка надо мной сосны, - освежевали стволы ледяной остров. Собака знала все свои грехи и, раны пересчитывая к смерти, хотела жить, не уходя в стихи, куда ее выталкивали дети и я, - и над асфальтом был господь, переминая в пальцах душу - плоть. Я улечу по снежной колее, в щенячий мех зарывшись головою, к Венеции хрустальной, и по вою ты различишь беглянку на копье, и над землей опять нас будет двое, и там, сомкнувшись из последних сил, над местом лобным в области Пьяцетта, воды хлебнув зеленой, а инцеста не осознав, Он так меня спросил: когда ты дочь - зачем тебя люблю и хищником стою у изголовья? Когда ты ночь кромешная - залью я твой пожар моей нетленной кровью, по сути - мавр, по образу - святой, твой отче, у тебя я под пятой. Кати, волна, Венецию топи, Большой канал нанижут на гондолы, дома стригут, - они уже готовы, - овца молчит: купи меня, купи. Гаси, волна, мой вековой пожар, на Соловках нам всем достало места. Живые угли - в тишине пошарь, не там ли спит испуганно невеста. Когда вода шлифует, ошалев, скупые сваи и влечет на волю, не повторяй, венецианский лев, что в поле ты один, ты в поле - воин.МОЛИТВА О БЕЖЕНЦАХ
Прости меня, Чечня! за то, что бомбы рвутся, что говорю по русски, - за всех прости меня! за подлость и обман - спаси меня, Афган, за Венгрию, за Чехию. и за Таджикистан. За то, что я - уехала, чтоб, не марая рук, подняться было екому за раненых старух, что, скрюченными пальцами глаза птенцу закрыв, вжимали в землю, падая, но грудью защитив: некормленный, замоленный, коленопреклонен, не помер он, довольны вы? довольно вам! Спален Кавказ, дымится, пенится Абхазия;Тифлис, и я, твоя изменница, с горы срываюсь вниз. Мы - саженцы, мы нежные, мы заживо, живьем. Мы - беженцы, мы не жили, и пажить нам - жнивье. Не велено нам падать, - живей! но неужели и на воде обжечься, и в жар меня - не жаль? доколь великой женщине отверженной бежать из Еревана, розовой зарею из Баку? А я, а я, с позором к вам, куда я убегу? !